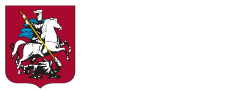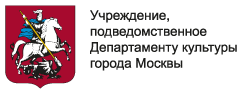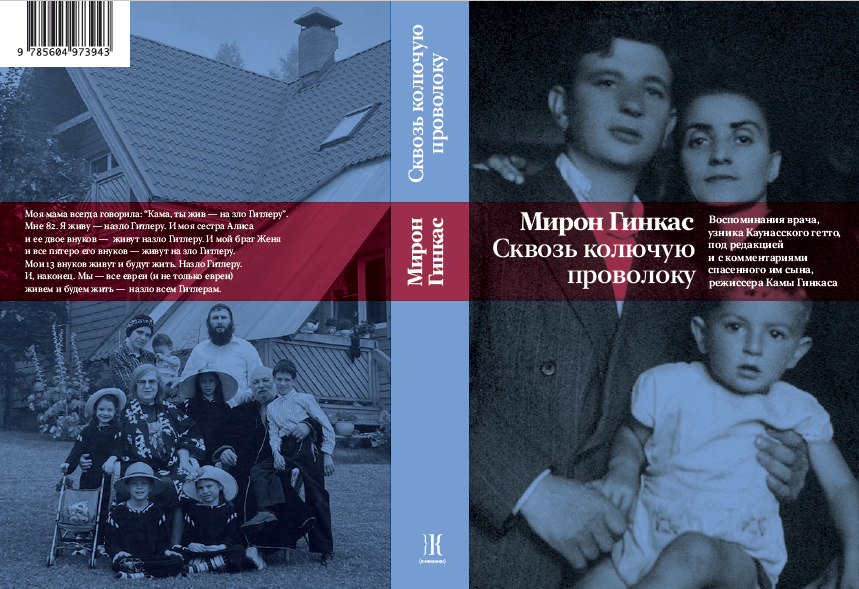Театр To Go
16.10.2024
В Московском театре юного зрителя – новый спектакль Петра Шерешевского «Медовый месяц в «Кукольном доме» по мотивам драмы Генрика Ибсена «Кукольный дом». В конце XIX века пьеса норвежца всколыхнула весь театральный мир. На сцене впервые так смело и радикально заговорили о правах женщины. Публика неистовствовала – Нора уходит от мужа из-за какого-то пустяка в неизвестность, да ещё и бросает малолетних детей. Ради чего? Понимал мало кто… Несмотря на неоднозначный приём пьесы, о роли Норы мечтали все актрисы. В премьерном спектакле МТЮЗ главную героиню играет Полина Одинцова, партнёром выступил Илья Смирнов. Их герои переименованы – и носят имена самих актёров. Это коснулось всех пяти персонажей.
3 часа 20 минут зритель наблюдает историю краха успешной семьи, очень отдалённо напоминающую сюжет из пьесы Генрика Ибсена. Диалоги рождались непосредственно во время репетиций, поэтому стиль речи современный, раскованный, простой. Тут вспоминают о «Магнит. Косметик», проходят мимо «Пятёрочки», хотят сыграть в настольную игру «Имаджинариум» и т.п. Порой возникает ощущение, что перед нами одна из серий какого-то популярного ситкома. Эффект усиливают два огромных экрана (традиционный приём Петра Шерешевского), где появляются крупные планы актёров, закулисные события и прочее. С одной стороны, это даёт возможность зрителям направить взгляд и рассмотреть то, что им интересно, пристальнее понаблюдать за реакциями героев, но с другой – рассеивает внимание, не даёт сконцентрироваться на самом действии, расслаивает постановку на живое и неживое.
Дом Полины и Ильи Хелимских (в пьесе – Нора и Торвальд Хельмер) – это современная версия небольшого загородного домика, с высокими – от потолка до пола – окнами. Художник Надежда Лопардина воссоздаёт быт довольно скрупулёзно, даже педантично; развернутый под углом главный фасад создаёт иллюзию подсматривания в соседские окна. Назвать уютным дом Хелимских нельзя, он скорее комфортабельный и модный.
Пётр Шерешевский сажает героев поочередно за камеры, расположенные по углам авансцены. Вначале спектакля «операторами» выступают Алексей Кроков, сотрудник Бета Банка (Алексей Алексеев) и одноклассница Полины Илона Линникова (Илона Борисова). Режиссёр полностью меняет конструкцию пьесы, поэтому первую сцену возвращения Норы с покупками предвещает диалог Ильи Хелимского и Константина Ранка. Из их беседы сразу становится понятно, что внешне идеальный брак Хелимских давно переполнен «скелетами в шкафу». Константин Ельчанинов в роли врача Ранка играет содержательно и тонко – его персонаж на протяжении спектакля раскрывается поступательно. За его реакциями любопытно наблюдать, а густой голос завораживает: кажется, что его Ранк знает гораздо больше, чем говорит. Актёру удалось соединить тон современной истории и многообразие ибсеновского характера. Это же можно отнести к работе Алексея Алексеева в роли Крокова. Герой буквально носит себя, говорит уверенно, ровно, в его холодном образе ощущается надвигающаяся на семью катастрофа.
Надо отдать должное – актёрский ансамбль в спектакле поражает натуральностью. Актёры существуют в видео-пространстве (саунд-дизайн Даниил Скорев, Дарья Кузнецова, монтаж видео Вадим Кайгородов, Вадим Кнышов), среди быта и внутри не очень изысканного текста – максимально созвучно с внутренней музыкой ибсеновской трагедии. А в ней множество недосказанности, метания, сомнений, тревог, тайн, боли. Каждый герой на сцене – это и есть Нора, стремящаяся не просто найти свой путь, а превратить саму себя в собственный, самый важный проект жизни.
В ибсеновский сюжет Пётр Шерешевский добавляет не только экраны и новый текст, но и гриль под снегом, пол с подогревом, который почему-то ломается в неподходящий момент, разборки между банковскими сослуживцами, рак мозга у главного героя, кредиты, звонкие сленги и прочие признаки жития. Можно ли назвать это «осовремениванием» классика? Нет, нельзя. А вот тот мощный актёрский сплав, созданный молодыми исполнителями – да, действительно это современный, острый диалог с классической пьесой. И пусть Нора, а точнее Полина, прячет вместо «мешочка с печеньем» коробочку Raffaello, но её трагедия от этого не меняется…