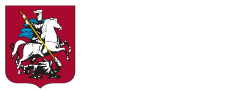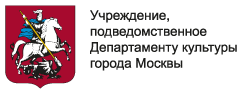Летающий критик 21.04.2024
Место и время действия «Собачьего сердца» неочевидны, социальный контекст тоже. Обои на стенах ободраны, точно в квартире Преображенского вечный ремонт и переезд (художник Ваня Боуден). Стены сквозят проемами: за ними экраны, по которым ездят современные автомобили, а профессор в пальто на лисьем воротнике отправляется на воображаемой карете в воображаемое путешествие в Большой театр. Антикварный буфет с посудой дребезжит, будто не домкомовцы за стенкой поют «Калинку», а поезд идет. Бобинные магнитофоны и потертое кресло адресуют куда-то в 1960-е. Шапка-пирожок Швондера и берет Вяземской – скорее в 1950-е с их сатирическими образами туповатых чиновников. Борменталь Ильи Шляги, надсадно отчетливо повторяющий в микрофон свое имя, как будто цитирует эпизод сдачи экзамена плутоватым студентом из «Операции “Ы”». А Преображенский Игоря Гордина – не столько профессор из «бывших», сколько какой-то заматересвший Шурик, по случайности не портал во времени открывший, а создавший нового-старого человека.
Персонажи бормочут, басят, подвывают, повизгивают и кудахчут. У каждого своя партитура звуков и действий. Молчаливая Дарья Петровна (Екатерина Александрушкина) с идеально прямой спиной и надменным лицом производит впечатление скорее классной дамы, чем экономки – пока не разражается каким-то квохтаньем «суп-суп-суп», будто подманивает цыплят. Повизгивая, точно крохотная левретка, на цыпочках бегает и помахивает полотенчиком хорошенькая Зина (Алла Онофер). Басит «тих, тих, тих» преимущественно где-то за сценой дворник Федор (Илья Созыкин) – верный цепной Полкан. Цепочку «животных» ассоциаций добавляет раскиданное на авансцене сено, точно не квартира Преображенского перед нами, а хлев. Пес тоже есть, настоящий, живой, лохматый, отлично выдрессированный исполнитель по имени Граф (в другом составе — Акир), с недоумением поглядывающий на якобы им разодранное чучело совы.
Интонации опрокидываются. «Его надо взять и отодрррать», – несколько раз с упоением повторяет Зина, взмахивая полотенчиком и смакуя понравившееся ей слово. «Ах ты свинья», адресованное нашкодившему Шарику, Дарья Петровна произносит как похвалу, а не ругань.
В партитуру звуков вплетается противная писклявая трель звонка. А фортепианную музыку Скрябина, которую включает и выключает кто попало и как попало, не столько слушают, сколько заглушают ею звуки операционной возни или насилия.
Цитат, явных и полускрытых (из советского кинематографа и мультипликации) так же много, как «оговорок». Эти оговорки («собака на сцене»-«собака на сене», «обработать Зину»-«обработать псину») задают и обнаруживают двойственность актерского существования: то ли Игорь Гордин иронически обыгрывает собственное место в иерархии труппы МТЮЗа, невзначай унижая Борменталя и швыряя на пол, будто корм собачке, монетки, предназначенные Зине на трамвай, то ли сам профессор делает это, забывшись. И уж точно Гордин раздраженно кричит Шляге: «Что вы ко мне пристали! Я не знаю немецкого языка». Рассеянность профессора – скорее своего рода маска, помогающая ему избегать прямых контактов с действительностью, являющейся в лице Швондера или какого-то пациента-клоуна в женском пальто (в обоих ролях Антон Коршунов), демонстрирующего обновленные гениталии. «Кто это был?», –недоуменно спрашивает домочадцев Преображенский. В этой своей двойственности маститого актера в роли профессора-знаменитости, не/умышленно подслеповатого к неприятным аспектам быта и повседневности, Гордину удается избежать полярностей, которые часто обнаруживаются в трактовке образа Преображенского. Интеллигент и человек высокой культуры – у Евгения Евстигнеева в экранизации В. Бортко. Довольно отвратительный гедонист и консюмерист Николая Чиндяйкина, например, в спектакле М. Диденко. Гордин-Преображенский отлично вписывается в компанию фриков на сцене.
Режиссерская метапозиция, карнавальность, заявленная бутафорскими усами на лице актрисы Софии Сливиной (Вяземская), полуимпровизационная манера существования, вавилонское смешение языков, стилей, оговорок и цитат дает какую-то то ли зыбь, то ли рябь, проходящую по спектаклю, предел которой кладет операция над Шариком. Операция – это фокус с сиюминутным разоблачением. В темноте актеры возятся вокруг обеденного стола, превращенного в операционный. Перед тем как погаснет свет, пес исполнительно запрыгивает на него. А уже дальше сам «фокус» подмены собаки на чучело, в ходе которого все раздраженно покрикивают друг на друга, торопятся, что-то роняют, путаются в инструментах, кричат про аллергию на собак, то есть выдают с головой театральную природу происходящего.
Гибридные существа, сами будто вышедшие из-под скальпеля незадачливого творца, который «сделать хотел грозу, а получил козу», создают по недомыслию кого-то, с кем дальше никто не знает, что делать.
После операции над Шариком все становится «серьезно». И отчасти жаль той легкости и зыби, которой было окрашено актерское существование в первой половине спектакля.
Шариков, назовем его пока Созданием, развивается стремительными темпами. Из коробки выпрастывается огромная рука, голова, забинтованная и покрытая клочковатой шерстью и издающая звуки пока еще как будто бы нечеловеческого происхождения. Оно встает на ножки, что вызывает нескрываемое умиление женщин: «Пошел, пошел, пошел!», – в эйфории восклицает Дарья Петровна. Оно неопрятно ест, оно ищет блох, оно, хихикая и смакуя, как ребенок на генитальной стадии развития юмора, произносит слова «писсуар» и «Дашка паскуда». Оно вызывает раздражение мужчин: у Борменталя, неравнодушного к Зине, практически, ревность, и отвращение, физическую брезгливость – у своего создателя Преображенского. Тем большее, что подрастающее Создание пытается ему подражать: «покажи мне, как ножку заплетывать». Тем большее, что он называет профессора «папашей», что звучит не панибратски, а как утверждение прав на сыновство.
Оно вцепляется в подаренную ему гитару, точно ребенок в барабан, и огрызается, когда у него пытаются отобрать игрушку, совсем по-собачьи. И так же, будто нашкодивший пес, прячется профессору за спину, жмется к его ноге в поисках защиты. Музыкальная тема Создания «Яблочко» звучит не залихватски, а тоскливо-заунывно, точно волчий вой на луну, и в чем-то даже фатально.
Оно и правда, как ребенок, огромный, неуместный и нежеланный, вносящий сумятицу в заведенный порядок жизни профессорской квартиры. И как дворовый пес – большой, лохматый, нахальный, похотливо и вместе с тем преданно виляющий уже несуществующим хвостом вслед Зине.
В сцене, где Максимов/Шариков заводит на сцену/в профессорскую квартиру реальных театральных монтеров, вновь обнаруживается двойственная природа режиссерского приема. Слова Шарикова по адресу профессора как «дедушки, которого он, если что, и веником» – цитата из мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса». В нем, как мы помним, домашний пес нелегально приводит домой дворового беспризорного дружка и, войдя в раж, объявляет себя хозяином квартиры и дедушки. И вместе с тем появление обычно невидимых работников сцены – еще и покушение на театральную иерархию, в которой одни «блистают», а другие «обслуживают».
Проблема Создания в том, что профессор, не получив ожидаемого результата своего эксперимента по усовершенствованию человеческой природы, слишком поспешно пролистав досье Клима Чугункина, адресует Созданию его личность. «Чугункин» звучит как приговор, как диагноз.
Но кто такой Шариков? Мы не знаем. Шарикову, которому Максимов сообщает артистическую легкость и обаяние, отпущены час сценического времени и несколько месяцев условно-жизненного, в течение которых он развивается, ищет признания и любви, подвергается непрестанной муштре со стороны Борменталя и Профессора, обзаводится «друзьями», проходит через подростковый бунт и, наконец, становится опасным. И в том ли дело, что исходный генетический материал оказался неудачным?
«Сделать из него человека никому не удастся». Но что делает человека человеком? Любовь или умение держать в руках вилку?
В спектакле Федорова отчетливо звучат переклички с «Франкенштейном» Мэри Шелли, не столько даже самим романом, сколько культурным мифом о нем, сложившимся за два с лишним века, ставящим под вопрос не только и не столько право человека-творца на творение, не столько этическую сомнительность евгеники, сколько вопрос личной ответственности за того, кого произвел на свет.
Режиссер не дает никаких прямых ответов, никого не обеляя и не очерняя. В его художественном мире, населенном гибридными существами, вопрос происхождения, классового конфликта, оппозиции людей якобы высокой культуры и люмпен-пролетариев не актуален. Актуален вопрос насилия не только над человеком, вообще, над любым живым существом.
Закадровая попытка насилия Шарикова над Зиной вызывает кучу вопросов. Точно не Шариков разбил девушке нос, а Борменталь, взастывающей, точно оскал, улыбке которого, в голосе, точно машина на репите, чеканящем: «На меня, на меня, на меня», есть что-то пугающее, не вполне биологическое. Борменталь избивает Шарикова, страшно, смертным боем, под музыку Скрябина и умоляющие поскуливания Зины: «Пожалуйста, пожалуйста, не надо».И это момент необратимости, в котором рушится маленькая иерархическая система отношений квартиры Преображенского, в котором выплескивается подавленная агрессия. Шариков становится опасен, Шариков пишет донос и достает из-за пазухи оружие. Но наиболее пугающее впечатление производит его последнее появление в качестве двойника профессора, в роскошном пальто на лисьем воротнике, его медленные жесты рук, стягивающих перчатки, его барственный наклон головы, которым он велит Зине снять с него шляпу.
Создание подменяет создателя, сын претендует на место отца.
Режиссерский прием складывания, оформления персонажности в течение действия проявляет одно из возможных пониманий происходящего. Актеры-неумехи по недомыслию создают существо, за появление которого никто не хочет брать на себя ответственность. Существо это, в отличие от остальных, рождается сразу же в театральном «здесь и сейчас», новорожденный Шариков рождается для театрального мира и в нем же умирает. Актер Андрей Максимов его именно что воплощает на полтора часа сценического времени. Но убийство его на себя берет уже Преображенский, в которого Игорь Гордин «отливается» за время спектакля.
Проблема физического устранения Шарикова – проблема дальнейшего выживания расшатавшейся микросистемы. Но это никак не снимает вопрос о праве на убийство человека человеком и об ответственности за него. Избегая социальной или временной конкретики, Антон Федоров ставит этот вопрос как универсальный этический. В финале спектакля пьяный и, видимо, сломленный Преображенский, лежа на авансцене, обнимает собаку и повторяет «прости меня, прости». Кому он адресует эти слова, то ли псу, то ли безропотно легшему под нож (напялившему на себя ростовой костюм собаки) Шарикову, уходящему со сцены в наш загробный человеческий мир?