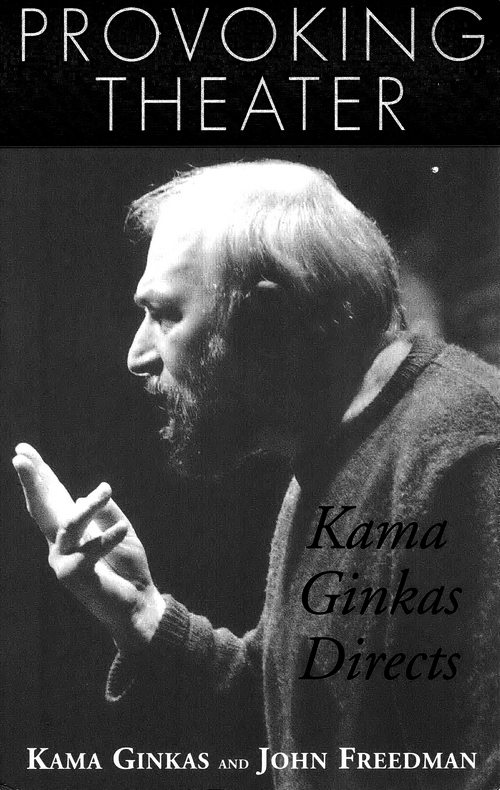Театрал
30.05.2022
О личном закулисье и «мирочувствии» Гинкаса и Яновской, о внутренних правилах, которые отличают МТЮЗ, недавно перешагнувший свое 100-летие, от других театров, и о том, с чего начиналась его новая биография – в большом интервью «Театралу».
«Мы с вами находимся во флигеле…»
– Да, и вы видите законсервированные остатки старинной штукатурки. Может, это легенда, но нам хочется считать, что наш флигель – чуть ли не единственный дом, сохранившийся после пожара 1812 года. Здесь я когда-то открыл Белую комнату, или как это мы называем «Игры во флигеле». Здесь, когда-то очень давно, в этом белом пространстве шёл мой спектакль «Играем «Преступление»» по Достоевскому. Маркус Грот, шведский артист, был Раскольниковым, а наши русские артисты играли остальных персонажей. Швед с помощью Достоевского из-за всех сил пытался постичь революционную бунтарскую душу русского человека, а нас тогда – был 90-й год – просто выворачивало от этих кровавых идей. Все персонажи стебались над шведским Раскольниковым, провоцировали его текстами Достоевского, и, в первую очередь, это безжалостно делал Порфирий (Гвоздицкий). Он, как мне казалось, все революционные искушения когда-то прошёл сам (как Достоевский) и этого ему хватило на всю жизнь. Раскольников отчаянно, на ломаном русском языке, переходя на шведский, старался доказать, что ради высокой идеи иногда можно и даже нужно убивать. Он укладывал живую курицу на пол и замахивался на неё настоящим топором…
Сейчас, здесь, во флигеле работают молодые режиссеры. Идут спектакли Саши Толстошевой, Сергея Аронина, Павла Артемьева, Ирины Керученко, Андрея Гончарова, Лизы Бондарь. И аз грешный тоже поставил несколько спектаклей здесь. Чудный Ясулович играет в зияющей Белой комнате «Последнюю ленту Крэппа». И ещё здесь идёт спектакль «Где мой дом». Кстати (это смешно), но я официально в МТЮЗе не служу. Я – режиссёр приглашенный. И в связи с тем, что являюсь родственником Художественного руководителя Г.Н. Яновской, я каждый раз обязан получить от Департамента культуры специальное разрешение. А вдруг коррупция?! А вдруг Яновская Г.Н. дает подработать своему мужу Гинкасу К.М.?
«Вся заграница просит»
Генриетта Наумовна не собиралась работать в этом театре. Тысячу лет назад ей кто-то предложил: «А ты не пойдешь Главным в МТЮЗ?» Она ответила: «Нашли дураков». После ухода Павла Хомского чуть ли не лет десять театр находился в самом плачевном состоянии. На балконе зрителей практически не было. Школьников загоняли целыми классами, и они ходили-вопили, а билетёрши и так называемая педчасть били своих зрителей по головам, чтобы те не дрались друг с другом и чтобы не стреляли в артистов из рогаток. Однажды все исполнители спектакля по комедии Шекспира «Много шума из ничего» просто ушли со сцены потому, что из зала летели металлические пульки.
На самом деле, у МТЮЗа богатая и очень разнообразная биография. Здесь, в этом помещении, читал свои стихи Маяковский, здесь – следы Ильинского, Бабановой, Вертинского, следы великого хореографа Голейзовского. Здесь Генриетта Паскар (Генриетта I, как потом шутили) в 1920-м году открыла первый в эСеСеСеРе театр для детей. Гораздо позже, но именно здесь работали Ролан Быков, Лия Ахеджакова, Ольга Остроумова, Лидия Князева и другие замечательные артисты. Но когда это было?
…Генриетта Яновская (Генриетта II) согласилась поставить в этом театре один спектакль и только. Категорически отказалась занимать пустующий кабинет Главного режиссёра, сидела в его предбаннике и считала, что всегда «держится за ручку двери». Но… Случилось «Собачье сердце» Булгакова. С этого «Собачьего сердца» всё и началось. Началась новая биография МТЮЗа. И вот уже 35 лет Генриетта Яновская является Художественным руководителем этого театра, а «ручку двери» пришлось забыть.
Первым делом она создала так называемую ТЮЗовку, то есть детскую «тусовку» при ТЮЗе. Четырнадцатилетние-пятнадцатилетние школьники из разных школ и разных районов толпились в фойе театра, спорили друг с другом и отвечали на вопросы. Г.Н. главным образом хотела знать, что их – пятнадцатилетних – интересует в жизни и в искусстве. Запальчиво, никого не стесняясь, высказывались: будущий кинорежиссер Дуня Смирнова, известный (в будущем) журналист Валерий Панюшкин и даже будущий Советник по культуре при Президенте Владимир Толстой. Ответы у них были вполне шокирующие: «Нас – пятнадцатилетних – интересует смерть, война и совокупление»…
…И вот «Собачье сердце».
В богом забытый театр рвутся зрители. У метро спрашивают билеты. Спекулянты их перекупают. А в зале… Плисецкая, Окуджава, Сахаров, Ельцин, Ахмадулина, Мессерер, Лунгин, Абдрашитов и ещё много-много, дай бог памяти, знаменитых и замечательных лиц. И вот, Питер Брук из ПарижУ интересуется у госпожи Яновской «не сможет ли она оставить два билета для него и не откажется ли после спектакля с ним поужинать». А дальше ЕВПРОПЕЙСКИЕ ГАСТРОЛИ!
Вы представляете себе?! В те времена за рубеж ездили только Большой театр и БДТ, а тут…какой-то ТЮЗ. Артисты плакали по возвращению, так как и во снах не могли себе ТАКОЕ представить. Конечно же, заодно они стали привозить купленные по дешевке ломаные иномарки, телевизоры и видаки. За такую машину или такой видак в те времена можно было приобрести небольшую квартирку.
За «Собачьим сердцем» последовали и другие спектакли: «Записки из подполья», «Гроза», «Иванов и другие», «Соловей», «Пушкин. Дуэль. Смерть», «К.И. из «Преступления»», «Дама с собачкой», «Чёрный монах», «Медея», «Леди Макбет нашего уезда» и т.д и т.п. И это в разные страны, в разные концы мира: от Кореи до Бразилии and Колумбии, от Израиля и Турции до Швеции и Финляндии. Причём в некоторые из них даже по нескольку раз. В центре Нью-Йорка рядом с Таймc-Cквером «К.И. из «Преступления»» игрался целый месяц. Так называемую World Premiere (то есть мировую премьеру) «Скрипки Ротшильда», а также последующие двадцать с лишним спектаклей мы сыграли на сцене знаменитого университетского городка Нью-Хейвена. Считается, что именно из этого университета вышли многие американские президенты.
Авиньонский фестиваль – самый значимый театральный фестиваль в мире. МТЮЗ два года подряд (!) показывал там свои спектакли. На «Грозу» считали своим долгом прийти такие грандиозные режиссёры, как Ариана Мнушкина, Эймунтас Някрошюс, Деклан Доннеллан. При этом представьте себе Мнушкина и Някрошюс настойчиво рекомендовали своим артистам посмотреть этот спектакль и поучиться.
«Трагедия обнаженной натуры»
Я и вообще не собирался здесь работать. Работать под руководством собственной жены?! Вот ещё. Сергей Бархин уговаривал: «Надо яйца класть в одно гнездо». Я отвечал: «Обойдется». Но разве вы не знаете женщин?! И Генриетта Наумовна тихой сапой, без уговоров, незаметно сделала так, что я уже 35 лет только здесь и ставлю (ну, ещё за границей, конечно!).
Первый мой спектакль в МТЮЗе – «Записки из подполья» – я задумал ещё студентом второго курса. Если хотите знать, что такое мой стиль, мой взгляд на мир, на жизнь – читайте Достоевского. Я весь состою из уроков «Записок из подполья». И вот, МТЮЗ. Гениальный Витя Гвоздицкий гениально играет Парадоксалиста, Ира Юревич – проститутку Лизу. Сценография – тогда малоизвестного в России литовского художника Адомаса Яцовскиса. В спектакле многое шокирует. Голая проститутка, не смущаясь присутствия клиента и зрителя, совершает некоторые профессиональные гигиенические процедуры. Но что более всего шокировало тогда всех и вышибало из равновесия – это до жути пугающе парадоксальный взгляд на человека, на его (то есть нашу!) просто патологическую потребность свободы:
«Да осыпьте человека всеми земными благами, дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории, — так он вам и тут, человек-то, рискнет даже пряниками, единственно для того, чтоб самому себе подтвердить, что люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши, на которых можно играть. Выдумает разрушение и хаос! Проклятие пустит по свету! А настоит-таки на своем! Хоть своими боками, да будет доказывать; хоть троглодитством, да доказывать, что он человек, а не штифтик».
Голодные 90-е. Холодные стены. Никто не ходит в театр. Премьеру сыграли. Дальше – со зрителем всё хуже и хуже. Мы ширмами отгородили первые девять рядов и все-таки играли. Но ЗАГРАНИЦА. Американцы, немцы, турки, шведо-фины десятками приезжали в Москву, чтобы посмотреть ЭТО. Гастролируем по Европам и имеем успех. Петер Штайн, великий немецкий режиссер, посмотрев спектакль, сказал: «Вообще я не люблю обнаженную натуру в театре, но впервые в жизни увидел трагическую ее суть».
– Игорь Гордин говорит, что девиз театра МТЮЗ – «человек есть испытатель боли». Из Бродского строчка.
– Девиз? Скорее это – мирочувствие, миропонимание себя в пространстве жизни. Это – позиция, наконец. В те годы, когда мы приятельствовали с Иосифом, все наше близкое окружение, все мы были невостребованные, безработные, бесперспективные, часто бездомные, «чуждые идеологии советского человека». И всё это мы считали нормой. Нам даже с Г.Н. хотелось сочинить спектакль про людей, сознательно ушедших из дома, из общества. Тогда их было много. И это все были люди молодые. «Не быть», «не участвовать», «не», «не»… Их (нас) не пугала отверженность и даже богооставленность. «Не возоплю, почто меня оставил?» (Бродский). Просто Бродский сумел это наше мирочувствие уложить в гениальные строки.
Одним из персонажей спектакля нам мыслился летчик, который сбросил на Хиросиму атомную бомбу. Свершив это, он ужаснулся. В Америке его считали героем, превозносили, все газеты писали о нём. Вдруг стало известно: этот Герой Америки, пример для подражания, бьет витрины магазинов. Его пытались усовестить, ведь он герой, потом арестовывали и отпускали. Но, выйдя из тюрьмы, он продолжал настойчиво бить витрины. Наконец врачи постановили, что летчик просто сошел с ума. И один великий психолог-философ под впечатлением от этой истории написал: «Быть нормальным в ненормальное время – ненормально». Вот это, пожалуй, наш девиз.
– Еще артисты упоминали термин «чувствилище». Это что значит?
– Не знаю, что такое «чувствилище».
– Прозвучало в программе «Ближний круг».
– Интересно, что они имеют в виду. Возможно, речь идёт не о «чувствилище», а о чувственной мысли. О мысли, которая воспринимается чувством. Мы с Яновской начинали в те времена, когда появилась интеллектуальная драма, и некоторые мои спектакли называли интеллектуальными. Я огорчался. Конечно, спектакль должен иметь смысл и необходимо его достаточно внятно проартикулировать. Но я за мысли, которые чувствуются, а не мыслятся, за мысли, рожденные чувством, Г.Н. тем более. Вообще-то все «мысли» уже давно известны, их только надо открыть заново – и ЧУВСТВЕННО.
– Говорят, у вас в театре перед спектаклем есть так называемые «пятиминутки».
– Яновская считает это необходимым. «Пятиминутка» помогает артистам снова сойтись, «услышать» друг друга. За то время, что в последний раз был сыгран данный спектакль, артисты переиграли во многих других, там другой «запах», другая «температура», интонация, эстетика, другой ритм. Г.Н. возвращает артистов к первоначальному впечатлению, к тому, что их заряжало когда-то на репетициях, и делает это потрясающе. Причём каждый раз находит что-то совершенно новое. Они балдеют и идут играть двухсотый спектакль, как первый.
Я этого не умею. Чуть спектакль вышел, он уже не мой. Я не могу «рожать» его второй раз. И смотреть тоже. Не могу. Просто не в состоянии. Режиссер в течение нескольких месяцев выстраивает артисту «слаломную дорожку», на которой тот сначала еле держится, потом наконец встает и даже взлетает: здесь поворачивает, здесь притормаживает, а к финишу просто парит. А режиссер? Что для режиссера остается после выпуска? Тоска, одиночество, чудовищное настроение. Ребенок, который родился на премьере, уже оторвал пуповину. Теперь артисты живут свободно. У них проходит страх, желание держаться за папу, за маму, а если есть ещё контакт со зрителем, и они его слышат, то радостно купаются в роли. Артисты усвоили все твои (режиссера) ходы и обогащают собой. Со временем они знают про спектакль лучше, чем ты. Указывают на твои ошибки, когда, например, приходишь делать ввод. И не потому, что ты чего-то не помнишь, а потому, что они давно уже изнутри. У нас в театре спектакли идут годами (по десять, а то и по двадцать пять лет), но, осмелюсь сказать, халтуры не бывает никогда.
«Она – тоньше, я – грубее»
– Есть ли в вашем театре негласные правила, которые выработались с годами и регулируют ваши творческие отношения с артистами и главным режиссером?
– Конечно, они есть, но я их постоянно нарушаю. Яновская – руководитель. Лидер по природе. И ещё… Ее волнует всё. Она потрясающе быстро умеет сориентироваться в любой области, начинает там «шарить» и подсказывать профессионалам, как и что надо делать, – и, самое поразительное, они соглашаются. Даже наши врачи-академики прислушиваются к ее «советам», как нас лечить. Вообще-то она могла быть финансистом, если бы родилась на 40 лет позже, потрясающим предпринимателем и вообще специалистом в любой области. Сегодня, несмотря на болезни и физические слабости, она держит театр в тонусе. Представьте себе, за два года пандемии и сопутствующего ей нескончаемого ремонта вышло семь премьер. Сейчас на «удаленке» она каждые 15 минут говорит по телефону – со всеми службами решает возникающие вопросы. Сегодня, например, прорвало трубу в Электротеатре по соседству, и в нашем зрительном зале было холодно. Кому, вы думаете, тут же сообщили о случившемся? Конечно, ей. Это привычно – по любым вопросам обращаться к Генриетте Наумовне. Что касается до меня… Я, как правило, начинаю нервно влезать и чаще всего бываю не прав. То же самое со спектаклями. Иногда позволяю себе приходить на ее репетиции, правда, уже на сценические. Артисты терпят. А она, что самое интересное, абсолютно не обращает внимания.
– А она к вам приходит?
– Нет, я бы не пустил. Спектакль рождается от соития автора, режиссера, артистов, художника и пространства. Вторгаться в это человеку со стороны недопустимо. Вот так.
Вы спрашиваете об отношениях внутри… Понимаете, есть театр – большое серьезное академическое учреждение. Есть театр – учреждение коммерческое. Тут работают, понимая, что делают качественный продукт. И есть театр-дом, где у всех отношения очень близкие. Когда Генриетта Яновская начинала, это был театр-семья, и она – возлюбленная мама, а все независимо от возраста – её дети. Есть репетиции или нет, есть спектакли или нет – в её кабинете собиралось человек десять-двадцать. Уходили одни, приходили другие. Обсуждали дела. Вместе с ней рвались защищать Белый дом, а это было начало 90-х, вместе с ней хоронили Сахарова и т.д.
Правда, первый год-полтора изрядная группа артистов, не занятых в «Собачьем сердце», вела с Художественным руководителем оголтелую театральную войну. Подключали парторганизации, ведомства по управлению культурой и КГБ. Писали письма, куда надо. Например, как-то на «Собачье сердце» пришёл тогда опальный Ельцин. Яновской позвонили (понятно откуда), мол, не надо, не надо Ельцина, могут возникнуть демонстрации. Г.Н.: «А разве человек не имеет право посмотреть спектакль? Поставьте милицию на подходах к театру, раз у вас проблемы, и удерживайте демонстрантов». Такие дела…
«Три кита: Ясулович, Баринов, Гордин»
– Ну, почему? А Верберг, а Лагутина, а Демидова, а Тараньжин, а так называемая «мОлодёжь»? Наш театр держится не на звездных китах, хотя Баринов, Гордин, Ясулович – несомненные звезды. Спектакли МТЮЗа всегда предполагают ОБЩЕЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. Это всегда оркестр, хорошо слаженный, с талантливыми исполнителями, где у каждого есть своя, иногда небольшая, но СВОЯ партия. Вы видели «С любимыми не расставайтесь», «Отца Сергия» – понимаете, о чём я говорю.
– Считается, что Игорь Ясулович для вас не просто актер, а своего рода символ театра. Это так?
– Не знаю. Мы знакомы с Игорем Николаевичем давно, встречались у друзей, и он всегда был нам очень симпатичен. Когда возникла необходимость найти артиста на роль Шабельского в спектакле «Иванов и другие», Г.Н. пригласила его. Ей казалось, что по всем статьям – человеческим и актерским – это точное попадание. Ясулович сказал: «Я всю жизнь был свободной птицей. Не знаю, смогу ли в театре…». Она ответила: «Сыграете в одном спектакле, если не понравится – интеллигентно разойдемся». И вот, по сегодняшний день Ясулович работает в МТЮЗе. За эти почти 30 лет он стал одним из лучших артистов своего поколения. Многое и разное замечательно играет в театре, профессорствует во ВГИКе, является «талисманом» Деклана Доннеллана. Деклан занимает его в каждом спектакле и возит по всему миру. Не было случая, чтобы Игорь Николаевич подвел театр. Ясулович не мыслит своей жизни без МТЮЗа.
– Валерий Баринов ушёл из Малого театра, где у него было 11 названий, сюда. Что вы ему такого предложили, что он вдруг решил сменить театр уже с первой читки?
– Об этом надо спросить его. В то время я собирался ставить «Скрипку Ротшильда». Договорился с Михаилом Ульяновым, но вскоре выяснилось, что он смертельно болен. Очень любил наш театр и нас с Генриеттой Наумовной Алексей Петренко. Хотел играть «Скрипку». Но начались репетиции – не идет. Звонишь – не отвечает. Потом случайно узнаю, что он боится – давно не выходил на театральную площадку. Петренко? Боится?! Так бывает. И вот – Баринов. Я знал его ещё молодым, с Ленинграда. Знал, что он замечательно работал в Александринке, в Театре Армии, в Малом держал весь репертуар. Я говорю: «Давай почитаем». Читка длилась час. Валерий Александрович то ли забыл, то ли не читал этот чеховский шедевр. Рассказ его совершенно потряс. А тут ещё выясняется, что «Скрипка» на целый месяц приглашена в Америку, где пройдет блок премьерных показов. Валерий Александрович мчится в Малый театр: «Вы должны меня отпустить!». «Должны…должны…11 названий. Как же так?». В общем, Баринов выбирает эту роль, Америку и дальнейшую театральную жизнь в МТЮЗе. Валерий Александрович Баринов – это очень большой и редкий артист. Он генетически несет код русского человека. Таких, как он, сейчас почти нет.
– И вот, Гордин…
…Он пришёл в МТЮЗ, только закончив институт. Красивый, интеллигентный молодой человек, из Ленинграда, что тоже важно. Сидел на всех репетициях «Иванова»… Незадолго до премьеры (был 1993 год) застрелили артиста Олега Косовненко. Пол театра поехало в Нижний Новгород – хоронить (в скобках скажу, до сих пор в годовщину смерти наши ездят к его маме на поминки). Это театр. Понимаете? Это Генриетта Яновская, если хотите, атмосфера этого театра, способ существования людей на сцене и друг с другом – это Г. Н., со всеми её плюсами и минусами.
Так вот, Гордин довольно быстро вводится в «Иванова». Вдруг, его приглашают в «Современник». Солидно. Не театр юного зрителя всё-таки. Он приглашение принимает. Через пару месяцев возвращается назад. Почему? Гордин – наглухо закрытый человек. Я бы сказал даже патологически закрытый. Для него закрытость – больше, чем характер, это – его суть. Именно это вместе с на самом деле огромным внутренним темпераментом и замечательным чувством юмора делает Игоря Геннадьевича уникальным артистом. И уж если говорить про символ МТЮЗа, то это, пожалуй, Гордин. Вся идеология театра, весь способ актерской работы (существования) транслируется через него. Тот опыт, который он получил от замечательно сыгранных «дома» ролей, Гордин сумел использовать и развить в работе с Някрошюсом, Рыжаковым, Богомоловым и Туминасом.
При всех сложностях жизни театра, наши артисты имеют возможность работать на стороне. Раньше было гораздо строже. Но если артиста приглашает большой режиссёр, о чём речь? Собственно, мтюзовские у плохих и не играют. Лена Лядова ушла из театра, но снимается в лучших фильмах России. Плохо это? Нет. Сожалею, что она не работает? Да, очень. Как она гениально играла в «Трамвае «Желание»»! По-прежнему её очень люблю.
Конечно, мы тоже приглашали и приглашаем артистов со стороны: Кашпура из МХТ, от Виктюка – Карпушину, Лизу Боярскую от самого Додина, а Маркуса Грота притащили из далекой Финляндии. Девятнадцать лет, 249 раз Сережа Маковецкий играл у нас в «Чёрном монахе», ездил с нами в Германии, Кореи, Польши. И даже, когда Ясулович по состоянию здоровья вынужден был отказаться от роли Черного монаха, Маковецкий предложил, что он будет играть за двоих – за него и за Коврина (ведь Черный монах – приведение, в конце концов). Так он любил этот спектакль.
Артисты, которые ушли из МТЮЗа, стали ли они счастливее? Кому как повезло. Всё зависит от обстоятельств и того, чего они добивались. Но, как правило, некоторые приходят в МТЮЗ, как домой – «погреться».
«МТЮЗ – это Бархин»
– Театр устроен, как человек: его тело – это дом, здание, в котором живет его душа – режиссеры, актеры. Когда вы переехали в МТЮЗ, какие в нем были «физические» недостатки, которые хотелось исправить, и какие достоинства, которые делали его привлекательным?
– Если говорить про физические недостатки, они как были, так и остаются. Не хватало помещений – в результате сочинили Белую комнату, играли спектакли и на балконе, и в фойе. Лет 11 назад намечалась потрясающая реконструкция МТЮЗа (в 100-й сезон был просто косметический ремонт, который длился долго и отвратительно). Так вот, 11 лет назад во дворе предполагалась постройка огромного здания. Там планировали много всего и, в первую очередь, разнообразные пространства для игры. На самом верху нам виделась большая комната, где двухлетки, ползая по ковру, играли бы вместе с артистами, одновременно слушая сказки о том, как устроен мир. И хотя за это время в Москве построили ряд театров – нам наш проект запретили. Здесь нельзя строить выше пяти этажей.
Скажу больше, наше здание ещё несколько лет назад было в чудовищном состоянии: старые трубы, ветхая электропроводка, ужасные стены. Но тут выяснилось, что среди поклонников театра один из крупных экономических специалистов. Раздается звонок: «Здравствуйте! Я люблю ваш театр, но почему он в таком неприглядном виде?» – «Не дают денег». – «Вы не против, если я соберу? Сколько нужно на ремонт?» – «Не знаю. Поговорите с Художественным руководителем». Они встретились. Довольно быстро были собраны средства – только для фойе. Г.Н. вместе с директором сэкономили так, что хватило и на зал, который вы видите сегодня. Бархин велел потолок сделать красным, а стены – синими. И все архитектурные решения придумал он. Вообще МТЮЗ – это Бархин. И колонны с потрясающими рисунками Уильяма Морриса. И та самая псевдооранжерея, которая «выдвигается» из театра, когда вы идете по Мамоновскому переулку.
– То есть вы с самого начала меняли, адаптировали под себя это пространство с помощью Бархина?
– Конечно. Бархин официально здесь не работал. То был Главным художником МАМТа, то Большого, дружил с разными театрами Москвы. Но МТЮЗ всегда считал своим домом и преображал его пространство как для себя.
– А как началось ваше сотрудничество с Бархиным в качестве сценографа? Как вы отражали идеи друг друга?
– Это на четыре тома… Союз режиссера с художником – часто более личные отношения, чем с артистами, и складываются они очень трудно. Надо почувствовать, услышать друг друга, полюбить то, что есть другой, а иначе ничего не получится. При этом и характеры, и бэкграунд могут быть чудовищно разными, как, например, у нас с Бархиным. Это было длинное сближение. Но мы не только сработались с Сергеем Михайловичем, не только подружились, но как бы стали общей творческой семьей на троих. И всё это опять благодаря Яновской, с которой они сделали гениальную декорацию «Собачьего сердца» и даже еще более гениальную в спектакле «Соловей», где летали попугайчики, изображая китайцев.
– Как вы придумали закинуть пару спектаклей из чеховской трилогии на балкон?
– Я планировал делать спектакль «Пушкин. Дуэль. Смерть» по воспоминаниям современников. Друзья и недруги пытаются разгадать, как и почему случилась дуэль, ведь ничего не предвещало. Я рассказал Бархину свою затею. Он говорит: «Слушай, давай делать это на балконе, а на сцене – набережная Невы, гуляют дамы с зонтиками…» Я говорю: «Какая Нева? Это считай поминки. Пришли люди, близкие и не близкие, помянуть покойника… Но, стоп! Я собираюсь делать «Черного монаха» – и это, ей-богу, может быть на балконе». Я представил себе, как главный герой выйдет к зрителям, посмотрит на них и вдруг сиганет вниз. Прыгнет в незнаемое. Бархину было всё равно Пушкин это или Чехов – главное, что задействован балкон… Потом и я, и он очень гордились и даже любили это использование двух пространств: крошечной площадки на балконе и черной бесконечности зрительного зала.
– У вас на репетициях есть система запретов, «красные флажки», за которые нельзя заходить?
– Все, с кем я работаю, знают – когда прихожу в новый коллектив, говорю: «У меня очень трудная фамилия. Меня зовут Кама Гинкас. Это первое. Второе – не «шуршать».
– То есть буквально «не шуршать»?
– Вот именно. Осознаю, что в этом есть что-то странное, чрезмерное. Тем не менее. Все должны быть крайне сосредоточены. В первую очередь – я сам. И, представьте себе, артисты не «шуршат». Шутить – пожалуйста. Мы очень много шутим и много смеемся. Я позволяю себе вышучивать артистов и не стесняюсь шутить над собой – это им особенно нравится. Но если во время репетиции кто-нибудь приоткроет дверь – уборщица или директор театра – я реагирую со скоростью молодого боксера. Все знают – лучше не надо.
– В МТЮЗе есть ваше личное пространство? Какая локация в театре, в закулисной части, больше всего заряжена, «вибрирует» вашей энергией?
– О, это замечательный вопрос. Своего пространства нет. Повторяю: я не служу в МТЮЗе. Я – родственник Художественного руководителя. По блату Яновская дает мне ставить спектакли, причем именно те, которые я бы хотел, и именно так, как я бы хотел. Иногда делаю то, что очень нужно ей (то есть театру). Ставлю «Золотой петушок» и «Счастливый принц» – детские спектакли, а это – совсем не мой жанр. Правда, и то, и другое название на самом деле притчи. И это самое замечательное. Очень часто бывает, что у Генриетты Наумовны конфиденциальный разговор с артистами или с директором, а я… сижу в фойе на диване, иногда сплю, или на стуле в предбаннике жду. Причем, мог бы поехать домой, но Г.Н. говорит: «Сейчас-сейчас». Я очень хорошо знаю это её «сейчас-сейчас» – знаю, это на 2 часа как минимум. Так что своя локация возникает, только когда я репетирую – и тут вообще двери приоткрывать нельзя.
Мы, естественно, делим территорию, как во всяком театре, обмениваемся локациями. Это нормально. В силу того, что я родственник, иногда мне приходится уступать приглашенным режиссерам сцену, потому что им надо поставить и уехать, а я могу подождать. Бывает иначе: уступаешь место, а человек не делает спектакль, в результате спасаешь ситуацию и быстро выпускаешь премьеру сам. Так я поставил «Где мой дом». Раз родственница – руководитель театра, я должен ей помогать. Причем родственным связям уже 58 лет. Это не семья, а целый семейный театр. И проблемы, соответственно, семейные – всё, как полагается.
https://teatral-online.ru/news/31626/